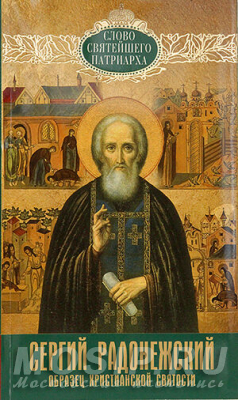 ВЫШЛА КНИГА СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА «СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ. ОБРАЗЕЦ ХРИСТИАНСКОЙ СВЯТОСТИ»
ВЫШЛА КНИГА СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА «СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ. ОБРАЗЕЦ ХРИСТИАНСКОЙ СВЯТОСТИ»
Первым иконописцем из славян был святой равноапостольный Мефодий, епископ Моравский, просветитель славянских народов. На Руси преподобный Алипий - иконописец, подвижник Киево-Печерского монастыря. Он был отдан своими родителями в "научение иконного воображения" к греческим мастерам, украшавших храмы Лавры в 1083 году. По окончании росписи лаврских соборов он остался в обители и был настолько искусен в своем деле, что по благодати Божией видимым изображением на иконе воспроизводил как бы самый духовный образ добродетели, ибо он обучался иконописному искусству не ради стяжания богатства, но ради стяжания добродетелей. У преподобного Алипия был ученик и сопостник - преподобный Григорий, который тоже написал много икон, и все они разошлись по России.
В XII веке иконописные мастерские были при новгородских монастырях: Антониеве, Юрьеве, Хутынском. В XIII веке историей отмечается как искусный иконописец святитель Петр, Митрополит Московский. В XIV-XV веках многие великие мастера создали выдающиеся иконы. Хотя имена иконописцев не сохранились, их иконы время не уничтожило. В завещании преподобного Иосифа Волоколамского сказано, что Андрей Рублев, Савва, Александр и Даниил Черный "зело прилежаху иконному писанию и толико тщание о постничестве и о иноческом жительстве имуще, яко им Божественныя благодати сподобитися и тако в Божественную любовь преуспевати, яко никогда же о земных упражнятися, но всегда ум и мысль возносити к невещественному свету, яко и на самый праздник Светлаго Христова Воскресения на седалищах седяще и пред собою имуще Божественныя и честныя иконы и неуклонно на них взирающе, Божественныя радости и светлости исполняхуся. И не точиюна той день тако творяху, но и в прочия дни, егда живописательству не прилежаху. Сего ради и Владыка Христос тех прослави в конечный час смертный. Прежде убо преставися Андрей, потом разболеся и спостник его Даниил и, в конечном издыхании сый, виде своего спостника Андрея во мнозе славе с радостию призывающа его в вечное оно и бесконечное блаженство".
Преподобный Дионисий Глушицкий, написал много икон для разных храмов.
В XVI веке известными иконописцами были митрополиты Московские: Симон Варлаам и Макарий. Преподобный Пахомий Нерехтский и его ученик Иринарх, племянник преподобного Сергия святитель Феодор Ростовский, спостник преподобного Кирила Белоезерского преподобный Игнатий Ломский, иконописец новгородского Антониева монастыря преподобный Анания, преподобный Антоний Сийский с братией его обители.
Даже в XIX веке, когда древняя икона была в пренебрежении у "передовых" людей искусства и тогда находились светочи благочестия, подвижники - иконописцы, как возобновитель Нило-Сорской пустыни иеросхимонах Нил (1801-1870).
Вот великий сонм святых свидетелей, поименованных здесь отчасти, оставил нам драгоценное наследие - святую икону.
Движение исихазма шло на Русь двумя путями: непосредственно из Византии, с которой продолжались поддерживаться оживленные связи, и через Афон и славянский Юг. Целый ряд святителей, возглавлявших Русскую Церковь, были тесно связаны с этим движением (митрополиты Феогност, Алексий, Киприан, Фотий). Введение празднования памяти св. Григория Паламы (второе воскресение Великого Поста) скрепляло связь Русской Церкви с византийским исихазмом в области литургической. Литература, шедшая в большом количестве на Русь из Византии, с Афона и славянского Юга и влиявшая на русское монашество, была проникнута исихастским учением. Практика умного делания охватывала широкий круг учеников и "собеседников" преподобного Сергия. Троице-Сергиев монастырь становится духовным центром Руси и главным очагом распространения исихазма. Связи с Византией были особенно оживленными в области церковного искусства. Из Византии привозятся иконы, на Руси работает целый ряд византийских художников. Помимо них здесь находят прибежище и гонимые турками в XIV веке южные славяне. Однако движение исихазма на Руси не было результатом лишь внешней связи с Византией. Это был глубокий внутренний отклик духовной жизни Руси на догматическую борьбу в Византии. Можно сказать, что русское церковное искусство XIV-XV веков и частично XVI века есть своего рода вклад в эту догматическую борьбу, в которой Русская Церковь непосредственно не участвовала. Богословие исихазма отразилось на духовном содержании искусства, на его характере, на его теоретическом осознании.
Искусство этого периода направлялось людьми, которые сами были подвижниками исихастской жизни, или связаны с ней. Среди них история искусства выделяет три имени: Феофан Грек (XIV век), Андрей Рублев (1360 или 1370 - 1430) и мастер Дионисий (род. в 30-40 гг. XV века, умер в первые годы XVI века). Феофан Грек, по словам Епифания Премудрого, в работе "умом дальняя и разумная обгадоваше, чювственныма бо очима разумныма разумную видяше доброту си", то есть умом постигал далекое духовное, ибо просвещенными, одухотворенными чувственными очами видел духовную красоту. Об Андрее Рублеве и его окружении преподобный Иосиф Волоцкий писал: "Чуднии они и пресловущии иконописцы, Даниил и ученик его Андрей, и инии мнози таковы же, и толику добродетель имуще и толико тщание о постничестве и о иноческом жительстве, яко им божественныя благодати сподобитися, но всегда ум и мысль возносити к невещественному и божественному свету, чувственное же око всегда возводити ко еже от вещных вапов написанным образом Владыки Христа и Пречистыя Его Богоматере и всех святых". Богословием исихазма и в первую очередь учением о умной молитве руководствовался в своем творчестве и мастер Дионисий. "Ини мнози таковы же": это были и русские, и греки, и южные славяне, сформировавшиеся под непосредственным влиянием преподобного Сергия или его наследия. Поколения иконописцев, стоявших на необычайно высоком духовном и художественном уровне. В этих поколениях некоторые имена известны, но не связываются с определенными достоверными произведениями, большинство же мастеров остается анонимными.
На Руси подъем духовной жизни и расцвет святости совпал с распространением ересей и расцвет церковного искусства с проявившимся в этих ересях иконоборчеством.
В 80-х гг. XIV века иконоборческая ересь обнаружилась в Ростове. Глашатаем ее был некий армянин Маркиан. Она носила случайный характер и последствий не имела.
В XV столетии рационализм нашел новую почву в ереси жидовствующих, сперва в Новгороде, затем в Москве. Это движение, захватившее верхушку церковную, затем и светскую, просуществовало до начала XVI века. Так же как и стригольники, жидовствующие отрицали Церковь с ее таинствами, иерархией и учением; отрицали они и Святую Троицу, и Божество Спасителя. Их возврат к Ветхому Завету, из-за которого они и получили свое наименование, выражался в культе: праздновании субботы и других еврейских праздников и даже иногда в обрезании. Ересь жидовствующих не была однородным явлением; в ней были разнообразные, даже противоречивые течения, и по-видимому, не все еретики отвергали иконы. "Неции от еретик", например, обосновывали свою аргументацию ссылками на "иконные изображения". Но в основе иконоборчество здесь было явным несомненным, и именно оно послужило отправным пункте соборному суждению о них в октябре 1490 года. Соборный приговор утверждает: "Мнози от вас ругалися образу Христову и Пречистые образу, написанным на иконах, а инии от вас ругались кресту Христову, а инии от вас на многая святыя иконы хулныя речи глаголали, а инии от вас святые иконы щепляли и огнем сжигали [...], а инии от вас святыя иконы в лоханю метали, да и иного поругания есте много чинили над святыми образы написанных на иконах".
Основной реакцией на ересь была письменная полемика, среди которой особенно важно для нас изложение теоретического обоснования церковного искусства и его творчества.
Византийские исихасты, в тех случаях, когда они упоминают об иконе, не связывают ни ее почитание, ни творчество с умным деланием (так, св. Григорий Палама говорит об иконе лишь в рамках исповедания веры), может быть, потому, что ересь, на которую они отвечали, этого не вызывала. Связь эта была выявлена на Руси в XV веке в ответ на ересь жидовствующих и нашла свое выражение в труде преподобного Иосифа Волоцкого Послание иконописцу. Послание это сыграло большую роль в уяснении смысла церковного искусства. Его влияние отразилось на сочинениях св. Максима Грека, митрополита Макария, инока Зиновия Отенского и др. Оно состоит из собственно Послания и трех Слов об иконах и их почитании. Обращено оно к "началохудожнику божественных и честных икон живописания", то есть к главному художнику, стоящему во главе иконописцев. По-видимому, включенные в Послание Слова были собраны Иосифом Волоцким по просьбе знаменитого мастера Дионисия в назидание его ученикам и вообще русским иконописцам. Послание иконописцу имело целью осветить наиболее существенные вопросы, возникающие в ходе полемики с еретиками и одновременно пресечь попытки создания новых композиций, не соответствовавших православному вероучению. На это побудило то обстоятельство, что помимо ереси в тот период в иконописи частично начинает утрачиваться ее глубокая духовно-смысловая основа, начинается увлечение формальной стороной живописи, замечается некоторое снижение духовной высоты образа. Это не могло не беспокоить. Характерно, что само обращение послания к адресату звучит как призыв к бдительности стоящему во главе художников: "И тебе же ключимо сие написание того ради, яко самому ти началохудожнику сущу". Не случайно и преподобный Иосиф Волоцкий, то ли в упрек, то ли назидание современным ему иконописцам, ставил им в пример Андрея Рублева и Даниила Черного: "Никогда же в земных упражнятися [...], но всегда ум и мысль возносити невещественному божественному свету".
Характерная черта Слов, та, что здесь учение об иконе никогда не выделяется из общего контекста домостроительства Божия в целом: оно связано со всем православным вероучением, которое излагается именно через икону, причем никогда здесь речь не идет о теоретических утверждениях, а всегда подчеркивается духовно-созидательное значение и назначение изображения.
Полемическое содержание первого Слова заключается в последовательном опровержении аргументации жидовствующих, которая в большей своей части известна со времен раннего иконоборчества: ссылка на ветхозаветный запрет, смешение иконы с идолом, смешение понятий поклонения и почитания, отрицание почитания святых и мощей и, судя по опровержению, понимание Евхаристии как образа. Пространная аргументация посвящена теме святости храма, которая не имела места в византийской полемике. Эта тема (как и отрицание почитания креста) показывает, насколько жидовствующие в своем иконоборчестве пошли дальше византийских еретиков. На классическую аргументацию иконоборцев автор Послания дает и классический ответ, широко используя творения преподобных Иоанна Дамаскина, Феодора Студита и Седьмого Вселенского Собора, хотя и не ссылаясь на них. Так же как у апологетов православия VIII-IX веков, защита иконы начинается с разъяснения изображений в Ветхом Завете, разницы между иконой и идолом, между поклонением Богу и почитанием святых людей и священных предметов. Весь ход богословской аргументации византийских защитников иконопочитания находит новое преломление в сознании автора Послания в связи с особенностями эпохи и обстановки. В главной своей части аргументация здесь основана на историчности Боговоплощения со ссылками на нерукотворный образ и иконы, писанные Евангелистом Лукой. Приводя доказательства о существовании изображений в Ветхом Завете, автор говорит: "Колико паче ныне подобает в новей благодати почитати и покланятися иже от рук человеческих написанному на иконе образу Господа нашего Иисуса Христа [...] и поклонятися обожествленному Его человечеству и на небеса вознесшуся. Також и Пречистыя Его Матери [...]. Такоже подобает писати на святых иконах и [...] всех святых почитати же и покланятися [...]. Пишуще же изъображение святых на иконах, не вещь чтим, но яко от вещнаго сего зрака възлетает ум наш и мысль к божественному желанию и любви". Это почти дословное повторение мысли св. Григория Паламы о содержании образа Христова и созвучное ему в понимании значения и роли иконы.
Эта исихастская направленность сказывается особенно во втором Слове. Здесь она является той основой, с которой рассматриваются все затрагиваемые темы. В отличие от византийских исихастов, автор ничего не говорит ни о Фаворском свете, ни о божественных энергиях; но именно они и составляют основу его суждений.
Назидание "всякому христианину" второго Слова начинается с необходимости образа Святой Троицы, которая есть основа христианского вероучения и жизни. Изображать Троицу нужно "того ради, яже бо невозможно есть нам зрети телесныма очима, сих созерцаем духовне ради иконнаго въображения". Божественная Троица неописуема, и, хотя многие пророки и праведники о Ней возвещали, изображается Она лишь потому, что Аврааму "чюственно и в чьловечестем подобии явися и, якоже явитися благоизволи, и описоватися повеле и от вещнаго сего зрака, вьзлетает ум наш и мысль к божественному желанию и любви, не вещь чтуще, но вид и зрак красоты божественного онаго изображениа". Это явление Аврааму трех божественных Ипостасей в ангельском образе, как единственный исторический факт, противопоставляется автором многообразию пророческих видений и возвещаний. На этом чувственном явлении и основана икона Троицы, в которой "почитают и целуют едино существо Божества". Внешняя красота образа является для автора синонимом красоты духовной, и чувственное восприятие этой красоты должно вызывать духовное созерцание и приводить к умной молитве. Связанная с иконой Троицы, мысль эта распространяется на икону вообще, которая рассматривается как связь между настоящей жизнью и жизнью будущего века, так как та любовь к изображенному, которую она вызывает, такого свойства, что соединяет земную жизнь с той, "егда телеса святых паче солнечныя светлости просветятся". Это рассуждение представляется в Послании настолько важным, что почти целиком повторяется в конце третьего Слова. В дальнейшем изложении православного учения о Святой Троице автор уделяет много места учению о Святом Духе и пространно опровергает доктрину о Филиокве. Можно полагать, что в общем контексте Слова с его изложением вероучения об иконе, истинное исповедание Святого Духа для автора не теория, а залог подлинной духовной жизни и творчества.
По мысли преподобного, специфической особенностью икон является их божественный смысл, который должен подчинить себе все внешнее в иконе и читаться сразу. При этом, так же как образ Троицы, иконы Спасителя, Богоматери и святых основаны всегда и прежде всего на исторической действительности. Основоположное для православного богословия утверждение историзма в иконе приобретает здесь особое звучание. Икона - личный образ, и эта личная основа не допускает никакого смешения. Именно благодаря ей икону "подобает [...] почитати" и изображенному "покланятися яко самому оному, а не иному [...] якоже самей оней, а не иной". Подчеркивание историчности имеет в виду ту нечеткость в понимании образа, которая в это время начинает проявляться, и направлено против вымысла в тематике, который позже вызовет споры и протесты, как "самомышление".
Исходя из исторической реальности, автор Послания с не меньшей настойчивостью подчеркивает духоносность и святость первообраза иконы, и именно духоносность эта обуславливает и определяет содержание иконы и отношение к ней. В этом контексте он часто возвращается к известному положению: "Се бо почесть иконнаа на прьвообразное восходит и в иконах и иконами почитается и покланяется истина". Эта связь образа с первообразом переживается автором настолько конкретно, что об изображениях он говорит: "Образы [их] почитаем и покланяемся и яко живых их стоящих с нами от ненасыщаемыа любве помышляем".
Человеческое тело Бога Слова "плотиу явльшагося и с человеки пожити благоизволившаго и ради видимыя плоти мое спасение устроившаго" - то же самое тело, в которой "Божество неразлучно бе от плоти [...] и ученикам [Христос] явися, плотию нетленною уже и обоженною по вьскресении и на небеса вьзнесеся с плотию, и одесную Отца седе с плотию обоженною, а не в рассыпании тлениа, якоже мы". Подчеркивая абсолютную не изобразимость Божества, он образ, "начертание" Спасителя называет не только пречистым, что обычно, но и "богочеловечным" и "боговидным"; это образ "обожествленного Его человечества". Именно это сочетание двух реальностей, человеческой и божественной, является необходимым условием содержания иконы как выражения Богочеловечества Христова.
Вероучебная сторона иконы, как "всякому христианину потребная", на что указывает заглавие второго Слова, сопровождается здесь чисто исихастским поучением: "Егда убо Господу Богу твоему покланяешися [...] всем сердцем твоим и умом и помышлением да вьздееши зрителное ума к Святей единосущней и животворящей Троици, в мысли твоей и в чистом сердци твоем [...] чювственнеи же очи да вьздееши к божественной и всечестней иконе Святыя и единосущныя и животворящыя Троица, или богочеловечьнаго образа Господа нашего Иисуса Христа или Пречистыа Его Матери или когождо святых [...] и покланыйся сим душею мыслене, и телом чювьствене [...] и всего себе к небеси преложи".
Послание уделяет много места наставлению умного делания, давая советы для молитвенного и жизненного подвига. "Да и ты, любимче, убо где еси, или на мори, или на пути, или в дому, или ходя, или седя, или спя [...] непрестанно молись в чистей совести, глаголя сице: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, и Бог послушает тебе". Или: "Сомжи очи свои от видимых и прозри внутреннима очима на будущее". Эти наставления, будучи адресованы иконописцу, показывают, что должно стать жизненной нормой и руководить художником в его творческой деятельности.
Послание иконописцу не вносит ничего принципиального нового в учение об иконе. Но оно раскрывает в свете исихазма практическую сторону отношения к ней, полагая практику умного делания в основу ее почитания, вернее ее действенного восприятия, и в основу ее творчества. Поскольку икона связана с православным учением об обожении человека нетварным божественным светом, отношение к ней и ее творчество органически вытекают из молитвенной практики умного делания. Иначе говоря, как для действенного восприятия образа, так и для его творчества, необходимо духовное перерождение человека, когда "новотворящим Духом стяжает он новые очи и новые уши, и не смотрит уже просто как человек на чувственное чувственно, но как ставший выше человека, смотрит на чувственное духовно" [1].
Иосиф Волоцкий показывает, какие высокие требования предъявляются Церковью художественному творчеству. Художник должен ясно сознавать ответственность, которая возлагается на него при создании иконы. Его произведение должно соответствовать высоте изображаемого им первообраза. Подлинный художник должен быть причастен изображенному первообразу не только в силу своей принадлежности телу Церкви, но и в силу своего собственного опыта, то есть художник воспринимает и раскрывает святость другого через свой личный духовный опыт. От этого личного опыта или степей причастности художника первообразу зависит и действенная сила его произведения.
В Словах Послания эстетическая оценка произведения неразрывна с оценкой богословской. Красота иконы - отблеск святости первообраза. "Теория искусства" - учение Церкви об обожении человека. Из этого учения вытекает и практическая духовная жизнь, и искусство. Это - органическое единство духовной жизни.
В 1551 году в Москве под председательством митрополита Макария состоялся Собор выпустивший сборник своих постановлений - "Соборное уложение" или Стоглав. Этот Собор был созван для упорядочения разных сторон церковной жизни, в том числе искусства, потому что, по выражению царя, "поисшатались обычаи и самовластие учинилось по своим волям". Среди правил Стоглава, касающихся церковного искусства, одни являются определениями по частным и конкретным вопросам иконографии [2], другие относятся к самым основам и принципам иконописания, а также к иконописцам.
Из двух частных вопросов, обсуждавшихся Собором, один [3], касается возможности изображать на иконах людей не святых, живых и мертвых. В качестве примера ставивший вопрос царь ссылается на икону "Приидите, людие, триипостасному Божеству поклонимся". Здесь "в исподнем ряду пишут цари и князи и святители и народ, которые живы суще [...], також пишут и Пречистыя Богородицы образ в деянии иж есть на Тифине [...]. И о том рассудити от святых отец писаний, достоит ли писати живых и мертвых на святых иконах молящихся". Собор отвечает, что предания и писания "древних святых отец" и "пресловущих живописцев греческих и русских", так же как и сами иконы, свидетельствуют о таком обычае. Как известно, традиция изображать в церковных росписях и на иконах людей не святых там, где сюжет этого требует, восходит к первым временам христианства. Такого рода изображения, следовательно, не были новшеством, а обычным явлением в практике церковного искусства. Собор и перечисляет в качестве примера существующие в его время такие иконографические темы: Воздвижение Креста, Покров, Происхождение Древ Креста, Страшный Суд. В последнем случае "пишут не токмо святых, но и неверных многие и различные лики от всех язык". В эту эпоху изображения не святых людей как на иконах, так и в церковных росписях должны были получить особое распространение в связи с новыми темами и композициями, в частности в житийных иконах. Равновесие нарушалось, и не святым отводилось в композиции слишком часто и слишком большое место. И естественно, что возникает вопрос правильности таких изображений.
Другой вопрос [4] более для нас важен. Относится он к иконографии Святой Троицы: "У Святой Троицы пишют перекрестье ови у среднего, а иные у всех трех. А в старых писмах и в греческих подписывают: Святая Троица, а перекрестья не пишут ни у единаго. А иные подписывают у средняго: IС ХС Святая Троица. И о том разсудити от божественных правил как ныне то писати. И о том ответ. Писати живописцем иконы с древних образцов, как греческие живописцы писали и как писал Ондрей Рублев и прочий пресловущии живописцы, а подписывать Святая Троица. А от своего замышления ничтож претворяти". Как видно из текста, речь здесь идет о традиционном православном изображении Троицы в виде трех Ангелов. Собор определил делать лишь одну надпись: "Святая Троица", не сопровождая ни надписью, ни перекрестьями ни одного из изображенных. Правда, Собор не дал богословского обоснования своему предписанию; он ограничился ссылкой на авторитет Андрея Рублева и древних образцов. Как и в других случаях, в этом сказалась слабость Стоглава, имевшая для русской иконописи в дальнейшем печальные последствия.
Возвращаясь к поставленному вопросу, нужно сказать, что большинство из сохранившихся изображений Троицы не имеет ни крестчатых нимбов, ни выделяющей надписи. Однако как в греческой, так и в русской иконографии, и до Рублева, и после него, средний ангел, который всегда понимался как указание на вторую Ипостась, иногда, на более поздних изображениях, выделялся крестчатым нимбом с буквами o wn, надписью IС ХС и свитком в руке вместо жезла. На иконе Андрея Рублева никакого выделения не было, как показывает ссылка на нее Стоглава. В эпоху борьбы с ересью жидовствующих, отрицавших Божество Христово и православное учение о Святой Троице, крестчатым нимбом иногда наделялись все три Ангела. Более того, встречаются иконы, хотя и редко, где не только над средним, но и над другими Ангелами помещается надпись IС ХС. И то, и другое можно понять как желание подчеркнуть равночестность изображенных. Но и то, и другое является прямым искажением православного вероучения. Хотя выделение среднего Ангела имеет принципиальное основание, во многих святоотеческих толкованиях [5], в применении к данному изображению надписание IС ХС неверно, так как имя Богочеловека применяется к образу, который не является Его прямым и конкретным изображением. "Когда Слово стало плотию, - говорит преподобный Иоанн Дамаскин, - тогда Оно [...] и было названо Иисусом Христом". Тогда Оно и страдало; поэтому неправильно сопровождать среднего Ангела Троицы крестчатым нимбом. Тем более неправильно присваивать надпись IС ХС и крестчатый нимб другим изображенным. В таком случае атрибутами воплощения наделяются другие Лица Святой Троицы, Которым таким образом приписывается специфическая икономия второго Лица. Участие всех трех Лиц в деле искупления в силу единства воли Святой Троицы представляет одну из основных истин христианской веры, "но то же единство Божественной природы и воли Богочеловека с Отцом и Духом Святым исключает всякое перенесение страданий, приемлемых Им по человеческой природе и воле, на общую волю и естество Святой Троицы. Не Святая Троица состраждет Сыну и не единосущное Отцу и Духу Божество Сына терпит страдания и смерть; но Ипостась Сына терпит крестную муку по человечеству, приемля ее человеческой волей, которая одна во Христе отлична от единой божественной воли, общей со Отцом и Духом" [6]. Таким образом, всякое уточнение в виде надписания или крестчатого нимба представляет собою или просто несуразность: в первом случае три Христа; или же, во втором, - ересь, осужденную Церковью: "Иже Божеству страсть прилагающий, зауститеся вси чуждемудреннии".
В непосредственной связи с иконографией Святой Троицы находится вопрос об "изобразимости Божества" в 43-й главе соборных постановлений: "Да и о том святителем великое попечение и брежение имети, комуждо по своей области, чтобы гораздыя иконники и их ученики писали с древних образцов, а от самомышления бы и своими догадками Божества не описывали. Христос бо Бог наш описан плотию, а Божеством не описан, якож рече святый Иоанн Дамаскин: не описуйте Божества, не лжите, слепии, просто бо, невидимо, незрително есть. Плоти же образ вообразуя, поклоняюся и верую и славлю Рождшую Господа Деву". Текст, как видим, не отличается ясностью. По прямому его значению он относится как будто к Божеству Христа. Но Христос "описуется" по человечеству. Неописуемое же Божество Его никто описывать и не пытался. С начала спора об иконах только иконоборцы обвиняли православных в попытке изобразить Божество, то есть божественную природу. Для православного же мышления вопрос об изобразимости или не изобразимости Божества никогда не ставился, как не имеющий смысла. Теперь же православный Собор своих же православных иконописцев с резкостью обвиняет в попытке изобразить Божество по "самомышлению". Таким образом, из противопоставления описуемости плоти Христовой и неописуемости Божества скорее всего можно понять, что здесь имеется в виду какое-то другое изображение Божества, помимо воплощенного Сына Божия. Действительно, известно, что во время Стоглава уже существовало три изображения Святой Троицы: традиционная ветхозаветная Троица, так называемое "Отечество" - образ Бога Отца с Сыном в лоне и Духом Святым в виде голубя, а также "новозаветная Троица": Отец и Сын на престолах с голубем между Ними.
Собор стремится ограничить изображения Троицы "ветхозаветной" и таким образом пресечь попытки писать на иконах Бога Отца, как это делалось на Западе. Но между Собором и митрополитом не было единомыслия в этом вопросе. Собор не решился ни принять позицию митрополита, ни открыто ему противоречить и ограничился лишь намеками.
Собор устанавливает надзор над качеством иконописи, чтобы иконописец писал по древним образцам а "вново не прибавлял ни единыя оты". И над нравственным поведением иконописцев, а епископам предписывается налагать запрещение в писании икон на мастеров и их учеников, которые начнут "жити не по правилному завещанию, в пияньстве ... и во всяком безчиньстве".
В постановлениях Стоглава уже не видно отношения к труду живописцев как к "умному деланию". Теоретически он предъявляет правильные требования - "следовать древним живописцам", то есть следовать Преданию. Но это требование, лишенное своей жизненной основы (умного делания), превращается во внешние предписания и контроль.
Можно сказать, что Стоглав характеризуется не тем, что в нем есть, а тем, чего в нем нет, - своим отступлением от главного. Хотя на этом Соборе и обнаружилась по крайней мере теоретическая приверженность к требованиям, предъявляемым православной богословской мыслью к иконописи, его суждения, будь то по отдельным иконографическим темам или по вопросам принципиального характера (как творчество, мораль и т. д.), лишены основного: богословского обоснования. Если принципиально, с точки зрения церковной, ссылка на предания в виде существующих образцов "пресловущих иконописцев" является нормальной (ссылки на древность всегда имели большую силу авторитета), то понимание самого этого принципа и некритическое отношение к существующим образцам привели Собор, вместо творчества в Предании, к пассивному консерватизму. С одной стороны, он проявил здоровое стремление к пресечению игры воображения ("измышления", "самомышления", как он ее называет), с другой стороны. Собор или делал вид, что не замечает ее существования в целом ряде новых композиций, или действительно не замечал. Отсюда получилось противоречие между теоретическими решениями Собора и практическим его отношением к существующим иконам. Целый ряд композиций, написанных в это время и находившихся перед глазами Собора, представляет собой, как увидим, фантазии русских мастеров, основанные не только на византийских образцах, но и на прямых заимствованиях из римо - католичества. Собор пассивно принял те отступления от православного вероучения, которые он, по своему заданию, должен был исправить, и тем самым дал возможность продолжать эти отступления, то есть как раз закрепил "поисшатавшиеся обычаи".
Стоглавый Собор проявил себя характерным выразителем переходной эпохи и потому имел большие последствия для дальнейших путей церковного искусства (не только русского, но и вообще православного): именно в нем отразилась богословская беспомощность эпохи, замена критерия подлинности консерватизмом и живого творческого предания внешними правилами. Распространение новшеств, закрепленных Стоглавом, наталкивается на противодействие со стороны приверженцев традиционного понимания православного образа. Во второй половине XVI века возникают споры по поводу содержания и направления церковного искусства и идейное содержание этих споров, как увидим, показательно для происходящего сдвига.
Через два года после Стоглавого Собора возникло дело дьяка Висковатого, послужившее предметом соборных суждений, известных в истории под названием "Розыск или список о богохульных строках и о сумнении святых честных икон дьяка Ивана Михайлова сына Висковатого в лето 1553".
Причиной выступления Висковатого и его спора с митрополитом Макарием послужили новые иконы, написанные псковскими мастерами после московского пожара 1547 года для Благовещенского собора, а также роспись царской палаты.
"В лето 7062 (1552) месяца октября в 25-й день была речь царя и государя великого князя, Ивана Васильевича, всея Росии самодержца, с отцем своим Макарием, митрополитом всея Росии, и с архиепископы и епископы, с боляры, и с всем священным собором [...]. И митрополит говорил: [...] Государь, зде на Москве, в твоем царстующем граде, по соборному уложению (Стоглаву), надо всеми иконникы уставлены четыре старосты иконникы смотрети, чтоб писали по образу и по подобию [...]. И туто же говорил дьяк Иван Михайлов: не подобает невидимаго Божества и безплотных воображати, как ныне видим на иконе писано: Верую во единаго Бога [...]. И митрополит ему молвил: Да как писати? И Иван говорил: Писати бы на той иконе словы: Верую во единаго Бога, Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым, а оттоле бы писати и воображати по плотскому смотрению иконным письмом". Митрополит на это ответил довольно резко: "Говоришь де и мудрствуешь о святых иконах не гораздо. То мудрование и ересь галатских еретиков, не повелевают невидимых безплотных на земли плотию описывати. Не велено вам о Божестве и о Божиих делех испытовати [...]. Знал бы ты свои дела, которые на тебе положены, не разроняй списков".
Несмотря на такой ответ митрополита, Висковатый не успокоился и в ноябре принес ему "Список" - "О мудровании и о своем мнении о святых иконах", прося рассмотреть его на Соборе, который был в это время в Москве по поводу ереси Башкина. Причину своего выступления Висковатый формулировал так: "И о том, государь, была вся ревность моя, иже по человеческому смотрению образ Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, и Пречистые Его Матере, и святых угодивших Ему образы сняли и в то место поставили свои мудрования, толкующие от приточ, и мне, государь, мнит, что по своему разуму, а не по божественному писанию".
Иконы, в которые входили сюжеты, вызвавшие протест Висковатого, представляли собой ряд новых символических композиций: Символ веры, Троица в деяниях, Предвечный совет и четырехчастная икона Благовещенского собора, которая и до сих пор находиться в нем на том же месте и состоит из тем: "Почи Бог в день седьмый", "Единородный Сыне…", "Придите, людие, Триипостасному Божеству поклонимся", и "Во гробе плотски…". Сюжеты, входившие в эти иконы, Висковатый называл одни "самомышлением", другие "латинским мудрованием". Это были: изображение Бога Отца, Христа "в Давидове образе", Христа молодым в доспехах, нагого Христа, закрываемого херувимскими крыльями, а также Духа Святого "особно стоящаго во птичьи незнаеме образе" и другие.
Помимо икон Висковатого смущало и то, что в росписях государевой палаты "писан образ Спасов, да тутож близко него написана жонка, спустя рукава кабы пляшет, а подписано над нею: блужение, и иное ревность, а иные глумления". Из контекста ясно, что смущает Висковатого далеко не только неуместность соседства и тем неуважение к образу Спасителя, а то, что действительно здесь образ Спасов "по человеческому смотрению" тонет в аллегориях и иносказаниях. Ответ митрополита, как и многие его другие ответы, ограничивается подробным описанием темы росписи и подкрепляется ссылкой на житие св. Василия Великого.
Из Розыска выясняется, что до своего обращения к митрополиту Висковатый в течение трех лет "вопил на народе", то есть, открыто говорил о неправильности новых икон. По-видимому, он начал "вопить" еще до Стоглава. В этом, конечно, он был неправ тем, что не обратился со своими сомнениями непосредственно и сразу к митрополиту, что и было последним поставлено ему на вид.
"На вопросы и недоумения Висковатого Собор достаточного ответа так и не дал". Он осудил Висковатого, назвал его писания "развратными и хульными". Его делу было посвящено два заседания в январе 1554 года и, поскольку Собор этот был созван по делу еретиков, то и дело Висковатого само собою оказалось втянутым в ту же атмосферу. Собор не столько разбирал, сколько опровергал и обвинял. Церковная власть, словно стремясь уличить Висковатого во что бы то ни стало, обращала большое внимание на различные второстепенные формальные неправильности - в выражениях, в цитатах. Давя своим авторитетом. Собор заставлял Висковатого смириться. Дело дьяка Висковатого создает впечатление не в пользу митрополита Макария и Собора. Прежде чем перейти к ответам на затронутые Висковатым вопросы, митрополит явно стремится создать невыгодную, дискредитирующую Висковатого атмосферу: он пытается выяснить, действует ли Висковатый самостоятельно или у него есть единомышленники, обнаруживает неточности, неудачные или неверные выражения в "Списке" и, несмотря на то, что Висковатый тут же признает правоту Макария, подозревает в этих выражениях умышленные искажения. Все это, в связи с судом над еретиками (Косым, Башкиным...), бросает на Висковатого определенную тень.
То упорство, с которым митрополит защищал новое направление в иконописи, нельзя, конечно, объяснить только желанием осудить Висковатого за смущение им народа; нельзя объяснить его и только тем, что Макария задело вмешательство мирянина в богословские вопросы, то, что Висковатый поставил себя в положение судьи ("не ведено вам о Божестве и Божиих делах испытовати, - несколько раз повторяет он, - но токмо веровати и с страхом святым иконам покланятися"). Суть дела была все же, по-видимому, в том, что Макарий искренне не понимал существа затронутых Висковатым вопросов. Для Висковатого руководящим принципом в суждении об иконописи были основные положения православного вероучения. Висковатый ревновал не о старине, но об истине, то есть об иконографическом реализме. Висковатый пытался выяснить смысл изображения, самый замысел новых икон, их соответствие или несоответствие православному Преданию. Для митрополита и Собора руководящим принципом была существующая церковная практика, обосновываемая туманной и беспомощной богословской аргументацией, ссылками без большой разборчивости и осторожности на греческие и русские памятники. Хотя в своих ответах Висковатому Макарий постоянно ссылается на святых Отцов, проникновения в дух их учения у него нет. Он ограничивается подбором цитат, а иногда и просто слов, лишь бы было внешнее соответствие изображенному. Митрополита удовлетворяют, внешние приметы их соответствия словам "из божественных писаний". Это соответствие текстам и словам постоянно подкрепляется ссылкой на греческие образцы. По-видимому, непогрешимость греческих иконописцев для митрополита не представляет никаких сомнений. Сам занимавшийся иконописью, он усвоил себе взгляды и психологию мастеров, работавших по переводам, принимавшимся без всяких свидетельств. Во всех своих возражениях он обнаруживает верность букве, а не святоотеческому духу. А поскольку Висковатый не считается с таким способом обоснования, то он сам обвиняется Макарием в "самомышлении", в том, что он "не испытал божественных писаний". Митрополит и Собор иногда соглашаются с Висковатым, в частности в вопросе о сжатых дланях Спасителя в Распятии. Икону ведено переписать.
Нужно сказать, что Висковатый не был ни единственным, ни первым, кого смущали "самомышления" в иконописи. Подобные композиции возбуждали сомнения и споры уже гораздо раньше. Так, письмо толмача Димитрия Герасимова в Псков дьяку Михаилу Григорьевичу Мисюрю-Мунехину говорит о том, что еще в 1518 или 1519 году композиция, подобная тем, что оспаривал Висковатый, была представлена для суждения преподобному Максиму Греку. Тогда это был "образ необычен, егоже опроче одного града во всей русской земле не описуют". Максим сказал, что он ничего подобного не видел "ни в коей земли" и что иконописцы образ "от себя составили". По-видимому, ему было предложено письменное толкование. Он отнесся к иконам такого рода отрицательно: "Преизлишне таковые образы писати, иноверным и нашим хрестьянам простым на соблазн"; надо "те образы писати и поклонятися им, ихже святые отцы уставиша и повелеша соборне, и праздники им уставиша". Иначе же, "кто де захочет, емлючи строки от писания, да писати образы, и он безчисленные образы может составить". В том же письме Герасимов добавил, что еще раньше была "о том образе речь великая и при Геннадии архиепископе" (Геннадий был архиепископом Новгородским с 1484 по 1504 год). Геннадий столкнулся с псковскими иконниками по поводу работ, писанных ими "не гораздо". Иконники отговорились тем, что образа пишут "с мастерских образцов старых, у коих есмя училися, а сниманы с греческих". Этой туманной ссылкой на греческие образцы они и ограничились, "а писания о том не предложили никакого". Псковичи же тогда "паче послушаша иконников, а не архиепископа".
В 60-х годах, то есть через 15 лет после спора с Висковатым, подобная композиция была представлена на суждение ученику преподобного Максима Грека иноку Зиновию Отенскому. Его спросили об иконе "Богоотци", которую одни "не приемлют покланятися и овии чюдятся и хвалят, аки зело мудро образец составлен". Вопрос, по-видимому, был наболевший и, судя по настоянию собеседников Зиновия, нисколько не потерявший своей остроты со времени спора с Висковатым. "Любве убо ради молю тя; аще не бы распря была о иконе сей, ни едино бы о сем бы слово, но понеже некой не приемлют иконы сия почитати, сего ради молю тя, скажи". Такая икона, очевидно, не была известна Зиновию, он вопроса не понял: "Кая икона, юже именуеши Богоотца, не разумех бо аз". Ему пояснили, что речь идет об иконе "Богоотци Саваофе" и представили "Сказание", то есть описание этой иконы с толкованием. Судя по описанию этого Сказания, спорная икона, основанная на комбинации библейских текстов, была вариантом композиции "Единородный Сыне", в свое время смутившей Висковатого, с изображением Бога Отца в образе Давида, то есть царя и архиерея ("на главе Ему митра, на раму омофор", в руке, одетой в железную перчатку, меч), Христа молодым в броне и с мечом, сидящего на кресте, и т. д. Зиновий, выслушав Сказание, отозвался резко и бескомпромиссно: "И образец и сказание иконы сия далече от мудрования святыя соборныя апостольския Церкве и всячески чюже благочестивыя веры и мысли, и много досаждение на божественное естество, и на Господа нашего Иисуса Христа неправда".
По Сказанию, Саваоф изображается "в Давидове образе" на том основании, что Давид - предок Христа по плоти, "богоотец", и что в Евангелии Спаситель часто именуется Сыном Давидовым. На это заумное "богословствование" Зиновий отвечает, что если так, то Бога Отца нужно было бы изображать и "в образе Авраамли". Изображение Саваофа в виде Давида было бы "хулою юже на Божию славу воспущаему. И аще тленный и рожный и умирающий вина хощет быти безначальному: то уже таковаго нечестия ни в единой ереси не обретается". Зиновий ядовито замечает, что если Бога Отца изображать как царя и святителя, то "кому имать ходатайствовати, рекше святительствовати, имже сам есть Бог и Отец?" Вообще "сия же икона в Давидове образе ни по единому богодухновенному писанию, ни по апостольскому, ни по пророческому, ни по евангелию; от многих же паче ереси сложена, еже в Давидове образе Бог Отец и Христов образ по нему", то есть изображение Христа в том же образе Давидове, против которого протестовал Висковатый. В своем возражении Зиновий ссылается на 82 правило Трулльского Собора. Относительно деталей изображения, в частности железной рукавицы и меча, Зиновий говорит: "Несть прилично Богу Отцу безплотну невидиму, иже вся от небытия на бытие приведшу, начертовагися человеком мстителем". Если так "мучительная силы Божия иконам воображати", то при текстах вроде "чрево Мое на Моава аки гусли возшумят", или "буду им аки медведица раздробляя", придется "начертывати чрево Божие гусльми или медведицею ярящеюся". Зиновий не говорит о принципиальной изобразимости или неизобразимости Бога Отца; он не выходит из рамок представленного ему конкретного материала. И все же из его недоумения и возражений можно понять, что изображение в человеческом образе Бога Отца "безплотнаго и невидимаго", не представляется для него возможным.
Изображение Христа молодым, сидящим на кресте с мечом в руках, Зиновий осуждает как самовольное искажание евангельского свидетельства: "А еже в броне железней и шлеме медне с креста слезти на ада, ни един из богословцев предасть, никто от отец воспет"; равно как и то, что "Христу младу на кресте сидети. Вся та чужа православных мудрования, яко диаволе хуление". Действительно, христианского понимания предельного унижения креста как победы здесь не видно. Сила крестная передается изображением мирского оружия, и евангельская реальность заменяется аллегорией.
Не менее резко восстает Зиновий против другой детали той же иконы - распятого серафима ("как бы от ереси", - отозвался об этом изображении преподобный Максим Грек) и херувимов, о которых Сказание говорит: "А еже серафим бел - святая Его [Иисуса] душа [...]". "Два Херувима багряна се есть слово и ум". Зиновий, "разобравши по пунктам подробности спорного сюжета (в Сказании), нашел в нем следы гностических, манихейских, савеллианских ересей, а относительно всей композиции изображения заметил, что она составлена "еретическим мудрованием и пьянственнаго безумия шатанием"; "отвращаюся сих аз по правилу святаго вселенскаго шестаго собора", - говорит он.
Зиновий не отмечает западных деталей в опровергаемых им композициях. По всей вероятности, он просто не знал о их происхождении, как знал это Висковатый. В общих же суждениях об иконах он обнаруживает последовательную и твердую верность святоотеческому Преданию, основываясь, в опровержении новых композиций, главным образом на постановлении Шестого Собора:
Вселенский Собор заповедал "писати иконы по благодатной истине, - говорит он, - на память плотского Господня жития, и страсти Его и спасеныя смерти, и божественнаго бывшаго миру избавления".
Возникновение и особенно широкое распространение новых "богословско-дидактических" композиций обычно объясняется как один из способов борьбы Церкви с возникшими ересями. Однако в письменных источниках подтверждения этому мы не находим; ни в одном из сочинений, писавшихся в это время против еретиков, ничто не позволяет сделать подобный вывод. У преподобного Иосифа Волоцкого, в перечислении того, что изображается на иконах, эти темы отсутствуют. Если бы действительно подобные изображения были направлены против еретиков, то странно, что, например, такие решительные борцы против ересей, как Новгородский архиепископ Геннадий или св. Максим Грек, высказывались против них. Митрополит Макарий, в своей защите этих композиций, также не объясняет их необходимостью борьбы с ересями. Чего достигали эти новые "мистико-дидактические" композиции и что они доказывали, понять трудно. И это тем более, что и тогда их никто не понимал без специального разъяснения. К концу XVI века вся эта тематика прочно обосновывается в церковной практике настолько, что и в наше время рассматривается как нормальное явление. И например икона "Неопалимая Купина" имеет в Церкви день празднования.
Святоотеческое обоснование иконы как свидетельства воплощения, то есть, как мы уже говорили, основоположный для православного богословия евангельский реализм, замутняется, перестает играть основную, решающую роль. "Это был отрыв от иератического реализма в иконописи и увлечение декоративным символизмом, вернее аллегоризмом", и "это решительное преобладание символизма означало распад иконного письма". Интерес переходит с личности изображенного и факта на отвлеченную идею. Богословское и духовное содержание уступает место интеллектуализму и мастерству. Сдвиг, происходящий в церковном искусстве и в его понимании находит защитника и идеолога в лице митрополита Макария и санкционируется им и Собором. Сдвиг этот представляет благоприятную почву для западных влияний. Дело дьяка Висковатого и было столкновением традиционного православного восприятия образа с усиливающимся западным влиянием. Парадоксальным образом побеждает это "западничество", но под знаком "старины" и "собирания".
Внутренняя порча в церковном искусстве второй половины XVI века не была преобладающей. Но в силу происходившего духовного спада церковное искусство оказалось лишенным духовной основы - исихазма. Между молитвенным подвигом и творчеством, также как и богословской мыслью, появляется разлад. Это полагает начало отступлению от православного понимания образа, разрыву с Преданием.
На Руси в XVII веке, под воздействием западной культуры, происходит обособление культуры от Церкви. Это влечет расслоение общества. Если до этого, при всем различии в социальном положении, по духовному облику русские составляли однородную массу, то западное влияние, как говорит Ключевский, разрушило эту "нравственную цельность русского общества ... Как трескается стекло, неравномерно нагреваемое в разных своих частях, так и русское общество, не одинаково проникаясь западными влияниями, раскололось". Западные влияния все более проникают в саму церковную жизнь и искусство. На Русь широкой волной идут произведения западного религиозного искусства, а также "копии, прориси и гравюры с западных оригиналов, пущенные в ход иезуитами". Русские мастера широко используют этот материал при росписи храмов, заимствуя целые композиции. Они увлекаются главным образом бытовым аспектом, в который западные гравюры переносят все библейские темы. Особым успехом пользуется у них изданная в Амстердаме в 1650 году Библия Пискатора. Нужно сказать, что при пользовании этим материалом русские художники еще переплавляют его в органический художественный язык православного церковного искусства и в смысле художественном их работы (например, росписи храмов Ярославля, Костромы, Ростова) далеко оставляют за собой свои оригиналы. Но все же это уже искусство, которое лишь "озарено каким-то замирающим отблеском великих преданий". На Украине западными гравюрами пользовались уже в 40-х годах XVII столетия; а во второй половине века, по свидетельству Павла Алепского, "казацкие живописцы заимствовали красоты живописи лиц и цвета одежд от франкских и ляшских живописцев-художников и теперь пишут православные образы, будучи обученными и искусными". Использование западных образцов было, по-видимому, причиной того, что на Афоне, где в это время твердо держались православной традиции, монахи крайне неодобрительно относились к русским и особенно к украинским иконам, подозревая их в латинской ереси, "предпочитая лучшей русской иконе самый посредственный местный образ".
В Московской Руси в среде мастеров, занимавших ведущее положение (прежде всего в иконописной мастерской Оружейной палаты и среди мастеров, так или иначе с ней связанных), определяется течение, в котором формируются новые эстетические взгляды и зарождается новое направление в искусстве. В силу духовных и исторических предпосылок, которые сложились в это время на историческом пути Русской Церкви и ее искусства, именно этому течению и суждено было оказаться их выразителем и прийти к решительному разрыву с Преданием.
Как мы видели, содержание споров, волновавших широкие круги общества в XVI веке, касались вероучебных основ образа, соответствия тех или иных иконографических тем учению Церкви. Этому же вопросу продолжают посвящать главный интерес и некоторые памятники XVII столетия, как-то: Деяния Большого Московского Собора, писания чудовского инока Евфимия. Это сочинения иконописцев, мастеров Оружейной палаты, Иосифа Владимирова и Симона Ушакова, а также Симеона Полоцкого, Грамота трех Патриархов и частично царская Грамота. Духовная грамота Патриарха Иоакима, Житие протопопа Аввакума. Все эти документы важны тем, что показывают изменения, происходящие как в самом искусстве, так и в его понимании, показывают то, как воспринималось новое направление его сторонниками и что видели в нем и как его расценивали его противники. Все они отражают сложное и противоречивое понимание церковного искусства в XVII веке, причем даже те памятники, которые направлены на защиту традиционного иконописания, обнаруживают углубление и расширение начавшегося в XVI в веке спада.
[1] Симеон Новый Богослов. Огласительные слова.
[2] глава 41, вопросы 1 и 7
[3] 7-й, гл. 41
[4] 1-й, гл. 41
[5] подробнее об этом в главе Троица
[6] Лосский В. Спор о Софии








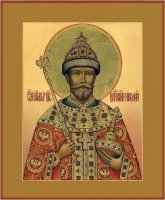
 1. РАСЦВЕТ РУССКОГО ИСКУССТВА
1. РАСЦВЕТ РУССКОГО ИСКУССТВА